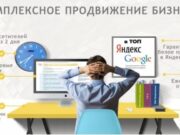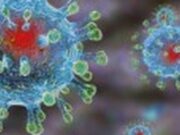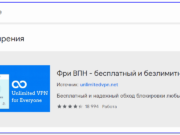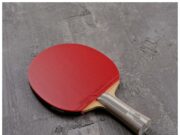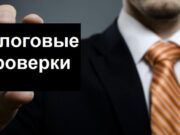Москва, Сочи, Новосибирск, Барнаул… За Юрием Башметом не успеть. Кажется, график жизни и творчества музыканта с годами становится не щадящим, а еще более плотным. «Выловить» маэстро удалось на ХVII Международном музыкальном фестивале в Ярославии. Хотя и там он ездил — то в Ростов Великий, то в Переславль-Залесский. А при встрече признался, что сейчас многим журналистам отказывает, но «АиФ» — не смог.
Татьяна Уланова, aif.ru: У Вас множество ипостасей, Юрий Абрамович, Вы — солист, дирижер трех оркестров, педагог, худрук фестивалей. А одним–двумя словами смогли бы назвать себя?
Юрий Башмет: Сложно… Наверное, я тот, кто любит музыку. К этому призываю и молодых коллег. У них все здорово, но слишком уж уходят в ремесло.
«Мама меня выстроила»
— Вы выступаете не только в мегаполисах, но и в маленьких населенных пунктах, где оркестр Башмета вживую, может, никогда не слышали. И не всякую классику поймут.
— Тут как раз все просто! У исполнителя два бога — автор музыки и слушатель. Перед ними мы и должны быть честны. А в каком месте играем — уже второй вопрос. Третья составляющая, которая особого значения не имеет, — количество людей в зале. Хотя, не скрою, приятно было, когда в усадьбе Демьяново под Клином собрались 12 тысяч слушателей, а в Самаре — 28 тысяч.
— Играете на стадионах?
— Нет, у Дома правительства в Самаре — огромный склон к реке, там и построили сцену. Дело ведь не в масштабах, по большому счету. Хороший концерт — это когда ты сумел своего слушателя сделать соучастником импровизации, рождения звука. Тогда ему начинает нравиться процесс, он понимает, что значим для исполнителя. Необязательно рисовать звуками картинки, хотя это тоже интересно. Слушая гениального Петра Ильича Чайковского или шедевры Моцарта, Рахманинова, Шостаковича, Шнитке, каждый думает о своем. Это и есть суть творчества, когда исполнитель занимается, репетирует, изучает, думает, а потом выходит на сцену и… Нет это нельзя сравнить с тем, что ты купил в магазине прекрасную вещь, о которой мечтал, и теперь всем показываешь. Совсем нет! Ты готовишься, готовишься, и на сцене — благодаря связи со слушателем — возникает следующая ступень творчества, импровизации… Не знаю, как это объяснить, но состояние зала всегда чувствуется. Вот концерт начался, пока ничего нет. Вдруг — какой-то миг, и ты понимаешь, что слушатели зацепились, они уже с музыкантами вместе… Дальше самое главное — вопрос вкуса. Целый пласт исполнителей пользуются приманками — они хотят удивить. Акцентируют внимание. И… теряют чувство вкуса. В музыке, в поведении, в одежде. Рисуют себе какой-то образ… Воспитание, гены, амбиции — все тут играет роль.
— Зацепить слушателя в Петербурге или в Гаврилов-Яме — это же разные задачи?
— Нет. Что объединяет людей на земном шаре? Факт рождения и факт смерти. И в Гаврилов-Яме, и в Петербурге люди одинаковые — у каждого есть сердце, мозг, душа. Каждый ложится спать, утром просыпается и начинает работать. В этом мы едины. И все испытываем переживания, независимо от того, живем ли в Москве, Париже, Лондоне или Токио.
Вы, конечно, правы — в маленьких городах и поселках люди не избалованы живыми звуками классической музыки. И на концерте, наверняка, не все готовы к получению удовольствия. Но любой способен воспринимать абсолютного гения Чайковского, если он исполнен искренне, с хорошим вкусом, ведь правда? Потому что Петр Ильич затрагивает все фибры души, ее метания. Не только он, конечно. Но он император нашей русской музыки.
Хотя есть бог музыки Бах, есть революционер с потрясающей «изюминкой», «сумасшедшинкой» Бетховен. При этом есть гений Шуберт, который затрагивал те же струны, что и наш дорогой Петр Ильич. У Моцарта есть откровения — просто как выходы в космос. Может, не имею права так говорить, но это мои ощущения — далеко не все произведения, даже у великих композиторов, одинаково прекрасны. Допустим, у Гайдна — больше 100 симфоний, а исполняется, наверное, половина. Так же у Моцарта, Шуберта, Бетховена. Даже у Чайковского. Значит, в каких-то произведениях они ракетоносно вырвались в общее признание, лаконично сказав о том, что есть главное. Такие есть у Шнитке, Губайдулиной, Александра Чайковского, а теперь и у Бодрова, Воронова… Потому мы и организовываем конкурсы композиторов, что они минимум на полшага впереди исполнителей. И ждем новых авторов, чтобы развивать наше искусство, повышать возможности инструментов. Говорю об этом как альтист, друживший со Шнитке.
— Началось все с сотрудничества?
— Первый раз, когда мы встретились, я вообще ничего не понял. 1976 год. Я победил на конкурсе в Мюнхене. Потом тяжело заболел — видимо, из-за невероятного стресса. На премию купил аппаратуру, пластинки. Целую неделю лежал и слушал любимый джаз. Квартиры в Москве еще не было — я снимал комнатку где-то у Смоленской площади. Вдруг — звонок Гидона Кремера: «Поздравляю!..». И рассказ о предстоящей премьере Квинтета Шнитке. А я тогда только фамилию слышал, не знал ни одной ноты из его музыки. Тем не менее, был рад, что появилось что-то новое в жизни.
Пришел на первую репетицию с Альфредом. Были прекрасные музыканты Танечка Гринденко, Юра Смирнов, Каринэ Георгиан. Мы играли, что-то обсуждали. А я то и дело ловил себя на мысли, что ничего не понимаю. Пришел домой, лег спать. А утром проснулся с ощущением, что заболел этой музыкой. Мне снилась эта тема. На следующий день я уже был абсолютно влюблен в музыку Шнитке.
После тихой премьеры в Союзе композиторов мы собрались в ресторане «Балалайка» на улице Неждановой. По традиции композитор должен был угостить ужином исполнителей. Альфред сидел рядом со мной, и спустя какое-то время я сказал: «Дорогой Альфред Гарриевич! Мне нужен серьезный сольный концерт».
— О как! Не постеснялись просить маэстро!
— Не постеснялся, потому что он мне до этого такие дифирамбы пел!.. Мы подружились. Он сказал: «Я вам обещаю». И подарил клавир Квинтета, премьеру которого мы сыграли. На «Мелодии» он не сразу был записан, потому что Гидон остался за границей, стал как бы диссидентом. Прошло несколько лет, и когда концерт, наконец, вышел на пластинке, все зарыдали. И Ростропович, и Рихтер — все захотели его играть.
Однако концерт для меня Шнитке написал только через восемь с половиной лет. Мамочка моя трогательная, помню, все время спрашивала: «Ну как, Альфред уже начал писать?». — «Еще нет». Мама вообще меня выстроила. Хотя не музыкант.
«Русофобия там была всегда»
— Не понимаю, как до сих пор не поставили памятник мамам великих музыкантов.
— Гениальная идея! Я это сделаю!
— Даниил Крамер, Вадим Репин, Юрий Башмет… Простые женщины-мамы подарили миру выдающихся музыкантов!
— Мама Вадика — особая женщина, мама Венгерова — уникальная, моя была замечательной. Я ведь не видел ее торжествующей, мамой выдающегося мирового музыканта. Только однажды перед моими гастролями в Японию она попросила привезти ей в подарок сувенирную пагоду. Говорить о шубах стеснялась. Филолог, с красным дипломом окончившая Ленинградский университет, мама из-за меня пошла работать в консерваторию. И когда я начал получать на конкурсах премии, была счастлива. Особенно, когда я приехал во Львов и играл концерт со Святославом Рихтером. Говорят, бойся мечты — она может свершиться. Мамина мечта сбылась. Но вскоре после этого она ушла из жизни. Успев прочитать письмо Рихтера, который написал, что ее сын очень талантлив. Папа долго берег его, но потом дом сгорел. У меня осталась только копия.
— Ваши родители ведь во Львове похоронены?
— Да, все семейство там. А я даже не помню, когда последний раз приезжал туда. Точно до ковида. Но ситуация была уже очень напряженной.
— В 2019-м там уже нельзя было попросить в кафе кофе по-русски.
— О чем вы говорите! Задолго до этого в специализированной музыкальной школе им. Крушельницкой, где я учился, был только один русский класс. Русофобия там была всегда. Западная Украина, Львов всю жизнь не любили Киев, считая, что он прогнулся под Москву. У них это в генах — полагать, что восточная Украина — с Россией, а западная — с Европой. Львов вообще — польскоговорящий. Если сейчас рядом окажется поляк, я все пойму.
Но давайте оставим эту тему. А лучше поговорим о том, как в России возникают символы объединения и героизма. Вот волгоградский аэропорт получил название Сталинград. Перед 9 Мая мы как раз выступали на Мамаевом кургане. Мне это очень нравится. Хотя мой дедушка по линии мамы был репрессирован и пропал без вести. Вроде бы при Ленине он был в очень большом чине. Я нашел его фото — на Свердлова похож, тоже в очках. А вот как во время войны исчезла бабушка (мама моей мамы), у меня до сих пор в голове не укладывается.
— Слышала, во Львове друг ухаживает за могилами ваших близких. Больше друзей не осталось?
— Есть еще одноклассники. Иногда кто-то подает сигналы. Но вообще мы сейчас не общаемся. Не хочу портить им жизнь. С подмогой, предприняв какие-то усилия, я, наверное, мог бы перезахоронить родителей. Но ведь там и дед, и прадед.
«В восторге от Пахмутовой»
— Вы вспомнили Волгоград. А я хочу спросить про Москву, где 9 мая была практически зима, и вы играли на улице. Как согревались, ведь к концу концерта температура была +2 градуса?
— Только не подумайте, что говорю это сейчас специально для прессы. Но должен отметить особый патриотизм, который проявили в тот день многие. Слово заезжено, но я его не боюсь. Мальчики и девочки из Всероссийского юношеского симфонического оркестра, совсем молодые ребята, сидели в оркестре с ровными спинками. Спасибо Русскому концертному агентству — выдало всем черные курточки. Ну а как в 2 градуса в платьицах сидеть?
— Ильдар Абдразаков еще и пел в такую погоду.
— Он пел, а друзья-артисты — Костя Хабенский, Володя Машков, Сережа Гармаш — читали. И все волновались: «Как там наш Башмет?». Отвечал: «Ничего»… Конечно, было холодно. Но смысл акции был выше трудностей.
— Здоровье-то дороже. Вы и так в пандемию пострадали.
— Здоровье не купишь. Но я был бы рад, если бы засудили даму, закупившую на миллиарды иностранную вакцину. Это же все пиар был.
Мы думали, пандемия — конец света. А наши врачи потом нашли способы лечения.
— 9 мая в концерте участвовала и Александра Пахмутова. Вот уж героическая женщина! В 95 лет сочинила произведение, посвятив его Великой Победе.
— Я тоже от нее в восторге! Она гениальная! Наш великий композитор! Говорят, президент предложил Александре Николаевне сочинить что-то ко Дню Победы.
Я ведь много лет в Совете по культуре при Президенте России. Его премию всегда получают прекрасные, легендарные люди. Но, помню, объявили фамилию Пахмутовой — и весь зал встал. Впервые! А в Большом театре во время юбилея Александры Николаевны играли мировую премьеру ее вальса.
Знаете, я вам так скажу… Если живешь музыкой, никакие ковиды и войны тебя не коснутся. Нужно изучать историю. Хотя бы чуть-чуть. Увлекать ею молодежь.
Давайте вспомним… Что, в эпоху Баха никто не дрался? Во времена Бетховена и Чайковского не было войн? Всё было. Но культура оставалась… Нет, не мягкой силой. Не надо ее так называть. Она оставалась главным орудием.
А если бы мы решили отключить механизм исполнения русской музыки во всем мире?! Просто сказали: «Мы запрещаем вам исполнять ее!». И что было бы?! Я не говорю, что только на русской музыке зиждется культура земного шара. Но без Баха, немецких, австрийских традиций после него и русской музыки культура, и правда, упадет. Никакие костыли не помогут.
Мы сейчас прячем все советское. А ведь в нем был огромный смысл объединения наций. И нам предстоит еще много лет доказывать, что мы не хуже, но и не претендуем на то, чтобы быть лучше. Просто говорим всем: уважайте нас, потому что мы тоже вас уважаем. Мне кажется очень важным говорить сегодня об этом.
«Мэр Монпелье хотел купить мой оркестр»
— Вы 300 дней в году проводите на гастролях. Музыка — ваша жизнь. Но, если бы завтра сказали: «Юрий Абрамович, хватит, ступайте на пенсию отдыхать», чем бы занялись?
— Тем же самым. Я ведь давно пенсионер. Но какое пособие, даже не знаю, правда. Что-то падает на счет, и ладно. Я довольно спокойно отношусь к деньгам. Конечно, каждый человек должен получать вознаграждение за свой труд. Но я не собираюсь покупать самолеты, пароходы, становиться миллиардером, вливаться в политику и влиять на нее.
Мы сильны нашим духом, отношением к человеку. Надо защищать свое достоинство. Поэтому наш президент выигрывает и будет выигрывать дальше.
— Музыканты, уехавшие после начала СВО, не имели достоинства?
— Думаю, им чего-то не хватало. Может, остроты жизни. Но из моих оркестров не помню, чтобы кто-то уехал.
— Слава Богу. В 1991-м вы уже пережили предательство, когда ваши оркестранты остались за границей.
— То — другая история. Не было ни денег, ни продуктов. И мне показывали дом во Франции, который мог бы стать моим. Мэр Монпелье тогда купил футбольную команду, хотел купить и мой оркестр. А мы уже «Грэмми» получаем… Я подписал документы, чтобы только не рассыпался коллектив. А потом выяснилось, что одна треть была против, другие взяли справки по болезни… Те, кто не хотел там оставаться, были в меньшинстве.

— Ваша супруга Наталья — скрипачка. Вы полвека вместе. Но она пожертвовала своей карьерой…
— И никогда не роптала, хотя сама очень хороший музыкант. У нас уже такой багаж — дети, внуки. Все нормально! Она мудрая женщина. И мы умудряемся идти вместе дальше. Несмотря ни на что.
— По-моему, ваш случай, когда три поколения семьи одновременно выходят на сцену, — уникальный.
— Пожалуй, вы правы. Сейчас у меня очень плотная связь с Грантом — сыном дочери. А с Ксюшей мы объездили весь мир. Она прекрасная пианистка.
— Вам легко с ней?
— Очень! Можем вообще не репетировать.
— Хотя, наверняка, вам пеняли, что продвигаете дочь, пристраиваете внука?
— Не поверите, я ее долго не трогал, пока однажды во дворе консерватории не встретил профессора Льва Наумова, прямого ученика Нейгауза, чья школа в мире — самая знаменитая. Когда упоминаешь его имя, все восклицают: «О, Нейгауз!». Среди учеников — Рихтер, Ниллельс…
Я, чтобы мне не пеняли, не вытаскивал дочь на сцену. Но Лев Наумов, который учил мою Ксюшеньку, сказал: «Юра, лучший концерт Равеля, двуручный, за все годы в моем классе играла только Ксюша. У вас же оркестр. Почему вы ее не позовете?». Его признание сняло с меня цепи. С тех пор мы ездим вместе. И чувствуем друг друга как никто. Из живых солистов только еще друг Витя Третьяков такой. С кем невероятно удобно, понятно, и даже дирижер не нужен.
«Если увижу бильярд, возьму кий»
— Ростроповича и Рихтера Вы тоже смогли назвать друзьями?
— Не сразу. Я был молодой, начинающий, хоть и завоевавший уже какие-то премии. Но они узнали меня, стали приглашать. Я не напрашивался. Главным в общении было взаимоуважение. Это то, что поднимало. Я осознавал, что меня и правда ценят, хотя они — легенды, а я еще совсем не мега-звезда. Только когда мы вместе сыграли раз десять, тогда уже что-то стало понятно.
— Вся ваша жизнь — музыка. И никакой рыбалки, охоты, шахмат?
— Даже марки не собираю. Но, если где-то увижу бильярд, с удовольствием возьму кий. На непрофессиональном уровне в свое время играл очень неплохо. И дома есть стол. Хотя дома-то особенно нет. Прекрасно играет композитор Александр Чайковский, великолепен Никита Сергеевич Михалков, мой сосед по Николиной горе. Леня Ярмольник вообще чемпион. Он у меня все-таки выиграл, хотя первые две партии была ничья…
— Однажды Вы вывели на сцену КЗЧ страуса. А недавно исполнили музыку, написанную Яндексом. Возможно ли, чтобы после Шостаковича, Шнитке и Пахмутовой музыку сочинял искусственный интеллект?
— Я открыт для экспериментов. Но сегодня музыка, написанная ИИ, очень сильно отстает от шахматного интеллекта. То был мультяшный симпатичный синтез известных мелодий, не компиляция, а именно работа интеллекта. И смею вас успокоить, это не будущее музыки. Чтобы дойти хотя бы до гения Чайковского, потребуется еще лет сто. Да и не сочинит ИИ ничего приличного, не имея души. Не будучи живым организмом.
— Даже живые композиторы не всегда способны удовлетворить публику. Слушала недавно в одном концерте современного автора, а потом — Чайковского. Кто выиграл в поединке, наверное, не надо говорить?
— А я и не спрашиваю. Заранее знаю. Хотя все равно жду от современных авторов, когда…
— Они приблизятся к Чайковскому?
— Ну да. Попытки-то есть. Например, в нашем спектакле «Живые и мертвые» по Симонову герой, достав знамя, говорит: «А, может, это и есть чувство Родины?». И тут мы начинаем играть трогательную, просто до слез, небанальную мелодию Валеры Воронова. На него и на других авторов, отталкивающихся от Чайковского, возлагаю надежды.
— Вам самому уже не нужно никому ничего доказывать. Теперь ваша миссия — делиться опытом, открывая школы и музыкальные центры?
— Так я это и делаю. Очень давно уже.
— Где силы берете?
— В публике. В отдаче. В том, как родители заряжают своих детей. Но это не только качество русских. Знаменитый американский скрипач Цукерман тоже мне однажды сказал: «Пришло время отдавать». Отдать то, что знаешь. И послужить Отечеству.