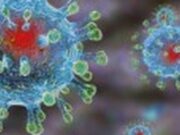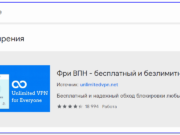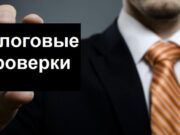На минувшей неделе в Москве прошла Международная книжная ярмарка, где можно было не только купить литературные новинки, но и пообщаться с писателями.
На встречу с Захаром Прилепиным, выпустившим недавно книгу «Собаки и другие люди», в выходной день пришло столько людей, что яблоку было негде упасть. Некоторые (как учительница русского языка и литературы из Чебоксар) приехали из других городов. Места на площадке занимали заранее, опоздавшие теснились в проходах. Народ встретил писателя как героя (в прошлом году машина Захара была взорвана агентами СБУ, охранник погиб, писатель получил множественные ранения). Раздавались крики «Браво!», а после каждого ответа на вопрос звучали аплодисменты. Так люди выражали свои эмоции. «Смотрю, не всем хорошо видно, я тогда встану», – начал встречу Захар. И простоял все 50 минут. А потом ещё не один час, до закрытия выставки, так же стоя фотографировался с желающими и подписывал им книги.
Мысли Захара Прилепина показались «АиФ» важными.
В начале было слово
– В какие времена лучше творить? В России крайне сложно вспомнить тепличные мирные времена, когда ни война, ни её предчувствие или последствия не волновали литературу. Сколько ни вглядывайся в русскую словесность, вся она связана с трагедией, с преодолением трагедии, боли, катастрофы. Вот поставили памятник Державину. А половина его произведений – это оды о воинских победах России. И вся жизнь напрямую связана с пульсацией великой России эпохи Екатерины. Тредиаковский, Пушкин, Лермонтов. Лев Толстой – «Севастопольские рассказы», «Кавказские рассказы»… Тургенев весь построен на предчувствии катастроф и освободительной борьбы в Европе. Бунин, которого многие воспринимают по недоразумению как певца антибольшевистского сопротивления и тишайшей традиционной России. А если перечитать его спокойно… Какой там ужас! Не меньше, чем короленковский, – от вида русской деревни, социума и предчувствия огромной трагедии.
Для меня образцом в этом смысле является поведение Алексея Толстого во время великого исхода белой армии из Крыма. Все плачут. Трагедия. А он достаёт печатную машинку и начинает писать новые рассказы. Жизнь продолжается, и кормить семью нужно уже завтра. Пока пароход шёл, Толстой уже что-то написал. И, возможно, это даже была весёлая бодрая проза…
1919–1920 годы. Есенин, Маяковский, Гумилёв, Шкловский, Ахматова… От России остался кровавый лоскут, всё изъедено со всех сторон, а они размышляют о перевороте в человечестве, которое совершит поэзия. Великая Отечественная. Блокадный Ленинград. Есть нечего. Катастрофа. А Берггольц (и не только она) пишет не переставая прозу, поэзию. Слово донесёт всю эту боль, трагедию тем, кто будет после нас. Потому что в начале было слово. И в конце было слово.
«Писатели искали войны»
Каким образом произошёл этот надлом, что мы стали представлять литератора как человека, который бежит от войны, политики, разрухи, хаоса, катастрофы? Когда я, простите за пафос, пришёл в литературу в 2003–2005 годах, главным вопросом, который мне задавали, был: как парень из ОМОНа, прослуживший 5 лет в спецподразделении, начал писать книги? Уже в головах людей было зафиксировано, что это совершенно не совпадающие занятия. С такой историей литературы, которую имеет Россия (где каждый второй писатель воевал, а если не воевал, то сидел, а если не сидел, то был госчиновником и занимался политикой в самые катастрофические времена), как мы дошли до мысли, что литератор должен от всего этого бежать?
И это было сформировано не в перестройку. Когда в 1979-м началась афганская кампания, Проханов поехал туда, а вернувшись, обнаружил в ЦДЛ, что с ним никто не здоровается, он персона нон грата. Все бывшие приятели от него отворачивались. А Шолохов помнил другие времена, когда все были причастны либо к войне, либо к другой беде. И позвал Проханова на свой юбилей.
Писатели искали войны. И считали жизнь нереализованной, если не проходили через неё лично. Даже замечательный поэт Пётр Вяземский, совершенно не склонный к военной жизни, с которого Толстой отчасти писал Пьера Безухова, участвовал в Бородинском сражении. Это было в порядке вещей. А в 1880-е годы стало считаться «западло». Как спустя 100 лет случилось с Прохановым. Какая-то прогрессистская публика пытается доказать русскому литератору: ты к этому не имей отношения, государственничество – пошлость, мерзость, уходи от этого как можно дальше, как можно брезгливее к этому относись.
«Кто охмурил их?»
Сегодня молодые литераторы считают, что главная проблема – твоя личная травма. Происходят планетарные события, гибнут русские и украинские люди, едут со всех сторон наёмники. А 90% молодых авторов пытаются разрешить вопрос: гей он или не гей, лесбиянка или нет? Обижала ли их в детстве мама, ставила ли в угол, сильно ли они страдали… Моя дочка нашла сайт, где молодёжь делится тем, что читает.
Там нет не то что текстов про СВО – нет ни одного писателя Великой Отечественной. Ни Бондарева, ни Бакланова, ни Шолохова. Нет авторов Гражданской войны. Они не читают это! Худо-бедно присутствует только Достоевский. Возможно, его считают «литературой травмы». Как и Оруэлла. Один парень упомянул Лимонова. Оказалось – военнослужащий из зоны СВО. Когда он сообщил об этом шестерым пользователям, его забанили.
Но ведь нельзя, находясь в России, не иметь никакого культурного представления, что твоя страна, твой народ прошли глобальную мировую катастрофу, самую большую за всю историю человечества. Это твои дедушки, бабушки и прабабушки. А тебя вообще не интересует этот контекст. Вот в чём катастрофа! Я не знаю, кому докричаться. Ребята умные, смотрят хорошие фильмы, но ни одной картины про войну тоже нет. Ни Германа-старшего, ни Бондарчука, ни «Торпедоносцев». Что за бред? Как это произошло? Кто охмурил их? Я хочу, чтобы они поняли, что причастны к великой стране, ко всему тому, что решает судьбу человечества.
При чём тут овечка Долли?
Кто-то возразит: поэзия – это сложно. Но ведь молодые слушают рэп, рок, так или иначе работают с поэтическим текстом. Ну пусть немножко и почитают и, может, что-то прочувствуют. Советская власть это прекрасно понимала, насаждая просто зверскими методами поэзию в стране. Издавались миллионными тиражами стихи для дошкольников, школьников.
Михалков, Барто – с этого начиналось сознание человека. Он входил в жизнь через стихотворный текст на бумаге. Подростком читал Есенина, Маяковского, любовную лирику. Взрослым – шестидесятников, бардов. Страна была охвачена поэзией. Это очень важно. Любой этнос формируется из поэтического слова, из песни, которую поёт племя вокруг костра. Из мифа или оды. Через это нация сама себя осознаёт. Через «Василия Тёркина», «Тёмную ночь», «Я помню чудное мгновенье». Это код, по которому восстанавливается русский человек. И из которого он создаётся. Если он исчезнет как вид, то из Пушкина и Лермонтова его можно будет опять воссоздать. Не из овечки Долли, а из русской поэзии.